| Об авторе |
|
|
|

| |
Нефедьев В.Е. / Произведения
МИСТЕР БЕЛЬ НА БАЙКАЛЕ
Ехал в 1720 году в Китай молодой человек из Англии, лекарь по имени Бель.
С детства мечтал он о путешествиях в дальние страны, читал о них книги, изучал языки, тренировался в плавании и верховой езде, стрельбе из пистолета и лука.
И вот, на русском корабле "Благополучие" прибыл мистер Бель из Лондона в Россию. Дело у него было очень важное - привезти письма первому врачу, тайному советнику императора Петра 1, Орешкину. Во время своего странствия писал Бель книгу "Путешествие из Санкт-Петербурга в Испаган". Из неё-то мы и узнали о переправе англичанина через Байкал. А переправа эта оказалась нелегкой.

От Иркутска к Байкалу поднимались плоскодонные судна по Ангаре. Погрузили на них все снаряжение вместе с обозом, с повозками, сбруей, сеном, было даже несколько лошадей. Бечевой с помощью лошадей привели их к истоку. Здесь уже стояла небольшая церковь во имя Николая Чудотворца, откуда и произошло название села — Никола. В церкви все путешественники молились перед отплытием и прибытию с Байкала о благополучном плавании. Говорят, церковь эту построил один купец, который остался жив во время шторма на море благодаря молитвам покровителю всех плавающих и путешествующих святому Николаю Угоднику.
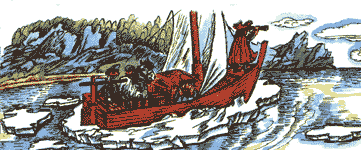
Приключения Беля начались с того, что Шаман-камень, который
находится на стыке реки Ангары и Байкала, не хотел выпускать
лодку в Байкал. Проход для судов в истоке Ангары был очень
узок, течение головокружительное, а камни по сторонам
его огромные и острые. Команда Белева судна не справилась
с управлением, и их чуть не разбило об эти камни. А случаи
такие, по рассказам жителей, бывали. Наверное, лекарь
Бель, молодой заносчивый представитель морской державы,
не верил ни в Шаман-камень, ни в святого угодника, ни
в святость самого батюшки Байкала.
О Байкале в старину принято было не говорить плохо, а
с почтением, называть его святым морем. Святыми назывались
некоторые мысы и горы. За непочтение к себе старик Байкал
мог наказать виновного, да и теперь наказывает. Но вернемся
к мистеру Белю.
Выйдя из Ангары в море при тихой погоде, экспедиция продвигалась
сначала вдоль берега на веслах.
Вскоре подул попутный ветер, поставили парус и весело
перебежали треть пути через Байкал. Но тут западный ветер
повернул на восточный, усилился, и судно не могло приблизиться
к истоку Селенги. Его снесло на много миль вправо, где
они увидели белый, песчаный или ракушечный берег, как
им показалось. Подошли к нему, чтобы высадиться, но то
были поля льдов, прибитые ветром к каменистой косе (а
месяц был май). Пришлось всей команде пробиваться сквозь
него, орудуя чем придётся: шестами, досками, веслами,
даже прикладами ружей. К тому же судно начало издавать
“преужасный треск”. Наконец льды совсем затерли его. А
ветер усиливался и мог в любое время взломать лёд и раздавить
лодку. Солнце село. До берега оставалось еще миль пять
и, как на беду, путников отделяла от него “превеликая
полынья”.
Стемнело, все продрогли, но не ложились спать. Лишь с
полуночи ветер опять стал поворачивать на восток. С рассветом
кое-как вместе со льдом отошли от злополучного места и
“в полдень вступили в Селенгу, где и нашли прочие наши
три судна”.
Не случайно только одно судно с начальством и лекарем
Белем попало в плен к могучему Байкалу.
После переправы через Байкал очередного посла Саввы Рагузинского
в 1727 году, который чуть не утонул в бурю на Ангаре,
правительство решило строить в Иркутске морские корабли.
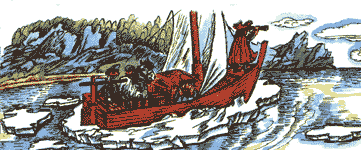
|
|